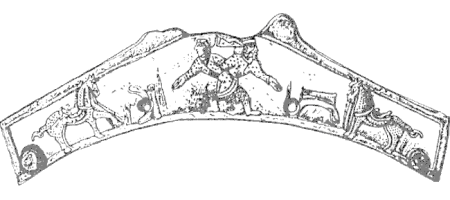
| ← ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ | ОГЛАВЛЕНИЕ ↑ |
| В Е Ч Е Р И Н А |
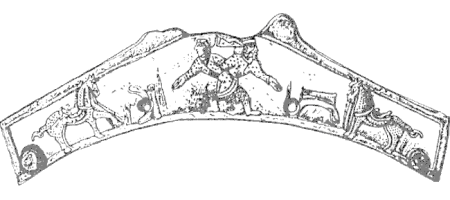
| ПЕСНЬ ПЯТАЯ |
|
Где-то, то ль в трипятом царстве,
то ль в треклятом государстве, жил да был один хазар по прозванию Захар. Худощавый, рыжеватый, росту среднего, носатый, лет за тридцать, к сорока, очень мог еще пока. Жил он от царей в сторонке, в государственной избенке, кошку содержал одну, сына, дочку да жену. Он имел два-три кафтана, шифоньер, фортепиано, восемь ваз из хрусталя, книг сундук да Три Рубля. Сам еду готовил киске, знал немного по-английски, ну а был он, например, по шурупам инженер... Если вдруг какой копуша до обеда нас не слушал, объясним ему без зла: это присказка была. Потому как дальше – пуще: царь Сусек VI (текущий), раздухарясь как-то раз, про хазар издал Указ, чтобы с глаз долой катились хоть куда: в кибуц в Итиле, на три буквы (ЧНП), к черту в зубы, и т.п.; только пусть-ка для отправки раздобыть сумеют справки! – так что, средь других хазар, собирал их и Захар: с места жительства, с работы, про детей из школы что-то, от покойного отца, и так дале, без конца... Это было до обеда. Что вы ели, домоседы? Лично мне – не повезло: было пятое число, месяц май, сезон черешни, эскимо и дичи вешней, но закон у нас – кремень: как четверг – так рыбный день. Был лишь винегрет с селедкой, да внесли на сковородке скудный дар морей и рек, – жареный холодный хек... Я, понятно, стал печален; но тогда – всё поменяли: был поставлен предо мной красный лобстер заливной, принесли салат миножий (с хреном и вином, похоже) и ласкающий язык нежный сёмужий балык, с кетчупом рулет севрюжий и копченый бок белужий, источавший под ножом жир, прозрачный, как боржом; расстегай с вязигой даже подан был с ухой стерляжьей, осветленною икрой (чем манкируют порой); и затем – предел мечтаний: запеченую в сметане порционную форель предложил мне метрдотель, да сервировали ловко в чугуночке над спиртовкой начинающий кипеть чеддер (с рислингом на треть)... После постного обеда – по закону Архимеда вытеснив воды чуть-чуть – полагается вздремнуть. Снился мне Захар с супругой и Изаура в кольчуге, юный хан Ратмир Каган и Евгения Каплан, вечер, Тень отца Захара, в селах у хазар пожары, а от них наискоски – в поле тень отца Фоки, тетя Байда, тетя Надя, лошадь Сокол в маринаде, князь Олег, Баян один и Василий Бородин, баба Вера, дядя Степа, призрак Моррисвиль в сиропе, царь Сусек, Алло-Чудак, мироед Саркел-кулак, подколодный Уж беззубый, поцелуй Озимой Любы, Любо Дорого черты, гений чистой красоты, мальчик Вовочка Уланский, подлый Сирота Казанский, кардинал, боярин Брут, Сам Директор тоже тут, и слуга Покорный шалый, и Лиха Беда Начало, Емельянов-нелюдим и боярин Леший с ним, воевода с чаркой водки и Весталкова-молодка, шитый золотом ковер, и – майор, Майор, МАЙОР... Так что – я проснулся скоро: то ль от призрака майора, то ль от пенья за окном (сущий, Господи, дурдом!): «Дан приказ ему на Запад иль в другую сторону; вспомнить заставляет запах то ль портянки, то ль войну... Манька-то прощается, плачет-заливается, слезы капают ее на прицел и на цевье. Но пора-ить в путь-дорогу да в поход очередной, чтоб борьбой за мир, ей-богу, – эх! – разделаться с войной. Вдоль шоссе – боярышник, там и встанут барышни, прямо у обочины будет ими кончено. Так не лей ты, молодица, слезы-желтые дожди, твой служивый воротится, только ты лежи и жди. Ухмыляясь в бороду, он пройдет по городу, от улыбок девичьих притворясь царевичем. Но сурово бровь насупим, коль захочет враг какой помешать нам в нашем супе грязною своей рукой! Если завтра вдруг война, встанут груди как одна; и от Леса до морей наше войско всех сильней!..» Это слободские бабы собрались на площадь, дабы проводить не как-нибудь воина Захара в путь. (Вишь, должон отбыть он в пору юных лет, военных сборов, там чего-то дослужить и, вернувшись, доложить, чтобы выдал Воевода открепленье от похода, – эту справку, как назло, тоже требует Гребло). А жена бойца и теща, обратясь от скорби в мощи, ощущая стресс и шок, собирали вещмешок: соль, порочный круг, аптечку, то-да-се, не богу свечку и не к черту кочергу, длинный рубль да деньгу... Сам герой же – встал, как к стенке (почему дрожат коленки?), и предшественников путь изучал, чтоб страх стряхнуть: след гонца царя Никиты, Федора-стрельца транзиты, гак Ивана-дурака и концы купца Садка; правда, Бова-королевич был забыт, Иван-царевич, королевич Елисей, князь Руслан и Одисей, – не того полета птицы, чтобы с ними впрямь сравниться... (А того Захар не знал, что он сам примером стал запорожцу за Дунаем и Миклухово-Маклаю, А.Никитину, купцу, да и Сухову-бойцу!) * * * От столицы на востоке –Непролазный Лес высокий впер семь верст на небеса; там, болтали, – чудеса (в решете иль в чем-то вроде), там боярин Леший бродит на охоту с ружьецом и с Тургеневым-писцом, там кикиморы в болотах защекочут до икоты, там Ермак влачит свой век (ледокол и человек), там в ветвях висят русалки, там, в натуре, елки-палки, правда, сообщил поэт, что дубов уж больше нет, – постарались лыкодеры Лукоморской сплавконторы... В этот непролазный Лес поутру Захар и влез, – может, там вернется в пору тех своих военных сборов (а когда свой ищешь полк, страшен не тамбовский волк). ...Как бродил он там, зверея, – это, братцы, эпопея, все ни в сказке рассказать, ни хард-диском описать! В общем-то, известны стали лишь отдельные детали, полу-небыль, полу-бред, перечень невзгод и бед... Например, как он однажды в помрачении от жажды пересек черту границ царства всяких важных птиц, в коем – солнце затмевают мокрых кур и куриц стаи, а куриный бог, урод, строит куры на развод; там «Памир» с пометом курят, там в мундирах синих куры гонят голых синих кур с их шестков и синекур; там павлин – курей не лучше, яйца курицу не учат, всякий кур плюется всласть, тщась плевком во щи попасть, а бесхозные цыплята просят, клянчат трусовато в инкубаторах приют (там их куры не клюют); там не место для растяпы, – курица царапнет лапой; там прохожих в прах и пух жареный клюет петух, – здоровущий красный кочет (кем он пущен? что он хочет?) – и с куриной слепотой не пускает на постой; индюка там думы гложут: где б добыть гусиной кожи, из нее «косуху» сшить и потом гусей дразнить; рыщет Голубь мира в тайтцах (у него такие яйца! – их почтут за божий дар рябчик «жуй» и птица «жар»); сидя в рукаве, синица с горя море сжечь грозится и с кукушкою вдвоем зачирикать соловьем; там пять раз в теченье суток батальон Газетных уток огласит земной простор злобным кряком: «Nevermore!» В крике, гомоне, бедламе вьются соколы орлами; каждый, голый как сокол, квохчет: «Решка иль орел?» Путника там съесть грозится не того полета птица, и на темя вдруг падет Первой ласточки помет; там в павлиньих перьях сонно реют Белые вороны, норовят тебя сгрести – и костей не занести... Там бы наш Захар и сгинул, да нашелся: скорчив мину, тех ворон считать он стал, чем до смерти напугал... Как потом попал на сутки в круг событий странных, жутких: за кустом, разрытым вдрызг, грянул поросячий визг (это свиньи под осиной разбирались в апельсинах); а Заблудшая Овца – Золотушного Тельца крыла: он, мол, ей неверен; брел и бредил Сивый Мерин, жеребец и паразит, что кобыле хвост пришит; Кот в мешке, шпаной разутый – в сапогах была валюта! – выл и плакал до утра, и наплакал с два ведра; вешали собак на ели, зарывали их и ели (подложив свинью под зад) волки из «Лесных бригад», а поев, всяк волк позорный в лес косил трубой подзорной; на горе свистел омар; носа не точил комар, но бодался, как корова; мерила блоха подковы; а змея искала грудь, чтоб согреться хоть чуть-чуть; стрекоза козой скакала, – с козодоем в гольф играла, муравей же не со зла предлагал забить козла; вошь сидела на аркане, муха плавала в стакане; вдруг обидевшись, она превратилася в слона (а была ведь – Цокотуха, позолоченое брюхо!) Тут слониха, вся дрожа, так и села на ежа, а медведь – он был не в духе – наступил слону на ухо (впредь, развесив уши так, моськиных не слушай врак!); услужить желая свету, начал бить он муху эту, но двух зайцев лишь убил и Захара съесть решил. Но и тут Захар не струсил, увернулся от укуса, сыпать соль стал на хвосты – и загнал зверье в кусты... Ка́к ночами вьюга злилась, в мутном небе мгла носилась, буря выла, как дитя, вихри снежные крутя; ка́к буран, что дик и злобен, волку голосом подобен, над Захаром мел сугроб, словно хладный мокрый гроб; ка́к порой – порой печальной! – плач метели погребальный кровь Захару леденил, а он шел, почти без сил; ни огня, ни черной хаты, тьма, безлюдье, глушь, Саратов, и – ни зги, снега, снега, и – буран, метель, пурга... Но однажды, в минус двадцать, он, упав, не смог подняться, и услышал в буре он отголосок похорон. Сдался стуже он на милость, засыпал; и тут явились Санта-Клаус, Пэр-Ноэль, Дед-Мороз и Мать-Метель. Уж текло тепло по телу, и Захар промолвил смело: «Здравствуй, дедушка Мороз! К смерти ль черт тебя принес?» Тот сказал: «Уж как придется; ведь кто весел – тот смеется, а сгореть кто обречен – не замерзнет нипочем!» А Метель шепнула нежно: «Спи в моих перинах снежных, я ж – последнюю твою колыбельную спою». И запела что есть силы, пуще прежнего завыла, и, глаза сомкнув едва, различил Захар слова: «Спят вершины, перевалы, не дрожат кусты; спи же, мо́лодец усталый, отдохни и ты. Пусть тебя во сне согреет жар родной печи, где подходят и добреют с маком калачи. На загнетке спят пампушки, в миске спит салат, спят галушки в справной юшке, шпроты в масле спят. Месяц ясный спит в тумане, спит и видит сон, что он пышный блин в сметане или круассон. Как гиссарские овечки, тучки в вышине; спят ягнята возле речки и растут во сне. Только волк не спит, шалберит, да меж темных скал злой чечен ползет на берег, ставит свой мангал. Он ягненка буркой душит ночью у реки; он свежует ловко тушу, режет на куски. А потом кладет ягненка в острый маринад; и уже шампуров тонких выстроился ряд. Угли светятся в мангале, а кругом все спит... Спи ж и ты, ходок усталый, спи – и будешь сыт». Сон есть смерть... Но пожалели Санта-Клаус с Пэр-Ноэлем (ведь южане все ж слегка) бедолагу-смельчака – и, сложив Захара в сани, на оленях утром ранним смылись, на́зло январю, прямо в снежную зарю... * * * Долго ль, коротко ль – кто скажет? –числился Захар в пропаже; а очнулся – перед ним Мертвый путь уходит в дым. (Строили его калеки в царстве Первого Сусека, – те, кто, полюбивши труд, мертвецами стали тут... Кстати, при Сусеке Первом Золотой был век, наверно: были ведь, куда ни ткнешь, все сознательные сплошь, остальные же – на диво скромны и трудолюбивы, так что, не кобенясь зря, собирались в лагеря, чтоб всем обществом, артельно (правда, с бабами раздельно) возводить чего-нибудь, – хоть, к примеру, Мертвый путь). И Захар, как на погосте, замечал повсюду кости; Мертвый путь сном вечным спал, и торчали ребра шпал... И пошел считать он шпалы, рассудив, что, как певалось, рельсы (вырвав костыли) все за горизонт ушли; и прибрел – душой робея, без надежных документов, в грязной и помятой блузе, пропаленной невзначай, – то ль в страну Оджибуэев, то ль в долину Тавазэнта, или, может, в Тоскалузу, – словом, в Непочатый край; вышел ни к селу, ни к граду, ни к детинцу, ни к посаду, где не то что вдруг портрет – о Сусеках слуху нет! Было так тепло, так мило, в небе солнышко светило, под ногами, как ручей, шлях из желтых кирпичей... Тут навстречу – Первый Встречный (с виду добрый да беспечный). «Где здесь место для чудес?» – спрашивать Захар полез. Тот ответил: «Сей тропою, из Порожнего в Пустое, дальше Некуда пройдешь, снова спросишь – и найдешь». Что ж, Захар наш осторожно минул ПГТ Порожний, и село Пустое тож обогнул, пройдя чрез рожь. Перейдя же через реку, угодил он в город Не́куд, и узрел: грязна, темна, плачет в городе тюрьма: «Ах, откройте дверь темницы, мне пустой быть не годится, мой исконный долг святой – всех пускать вас на постой. Но Суды, блин, Пересуды распустили всех отсюда, а ведь столько дела, брат! Кто сидел – тот виноват... Светлый призрак дней минувших: сколько их, меня хлебнувших! – И на стенах всяк писал, ка́к любил, за что страдал... Но Суды, блин, Пересуды разогнали всех, паскуды. Эх, скорей бы в дело, брат! Правый – тоже виноват... Широка ко мне дорога, и хоть тесно, мест есть много. От меня, гласит закон, зарекаться не резон. Эх, Суды, блин, Пересуды, ведь ветшаю я покуда... Ну, да будет дело, брат! Лишь кто мертв – не виноват». Ну, Захар ее утешил: кое-где заткнул в ней бреши, вымел пыточный подвал и в тюрьме заночевал. Утром же, расправив члены, вышел к Морю Поколено: нет конца той бирюзе, – не объехать на козе! Берегом Барахты-бухты он побрел, а мимо – у́х, ты! – пролетали, как грачи, тамошние лихачи: лёгок – на «помине» едет, если крепок – на «победе», бабы – те на помелах, а мужья их – на ослах. А вокруг – пейзаж окраин: в поле Сам Себе Хозяин, душу алчностью губя, погоняет сам себя; Стар и Млад гнут к грядкам спины городских студентов синих, т.к. все – и Стар и Млад – перешли на хозподряд, – печенежский фокус подлый, позволяющий их кодлу прибирать к рукам молчком смычку города с селом. (А спросить бы печенега: «Это кто там под телегой ?» – ведь ответит азиат: «Да рабочие лежат...») А студенты-то – все разом пели в поле по приказу, чтоб голодные их рты пеньем были заняты! Да, от века так ведется: песней этот стон зовется. И печальна, и грозна эта песня! Вот она: «Как собрался князь Олег дань содрать с хазар и прибыль – некий волхв ему предрек: мол, твой конь – твоя погибель... Князь расстался тем же днем с верным Соколом-конем. И конь Сокол наземь пал и о камень бился грудью, весь в крови и пене, клял княжее неправосудье... Тут к нему вполз Уж земной, корчась гробовой змеей. Сокол же хрипел меж тем: «Славно бился я и пожил! Знаю меч, но не ярем! Да и небо видел тоже. О, когда бы я хоть раз в небо взвился, как Пегас!» Уж шепнул ему тогда: «Если хочешь – что ж такого? Прыгни, коль лететь нужда, с этого холма крутого». Сокол дрогнул, вдруг заржал, прыгнул вниз – да и пропал... Мы поем который раз храбрости безумцев песню! (Князь сказал, что сей рассказ всяких Гете нам полезней). Песню горькую поем, горькую под песню пьем... Пресмыкающийся гад коль не может – не летает, на холме не наугад скромно князя поджидает; а бойцы всё помнят дни, как рубилися они». Ну, понятно, что на деле все по очереди пели, остальные втихаря не теряли время зря: лук, морковь жевали споро, огурцы и помидоры... Не коврижки, это – да, но – здоровая еда... Между тем, Захар старался, помаленьку продвигался, – не на месте же стоять и слюну, как вы, глотать!.. Вдруг в кювете драться стали: Жив и Мертв, вишь, торт украли, но никак ни Жив, ни Мертв разделить не могут торт. Тут Захар вмешался гордо: на торте черкнувши хорду, посреди ее Захар вывел перпендикуляр... Как они благодарили! Ковш Захару подарили, где под крышкой из стекла в масле плавала стрела. Зашагал Захар по стрелке, и попал он в Переделку; дальше двинулся, и так к вечеру попал в Просак. Но в итоге – дело чести! – все ж попал в Больное место: там по первое число сплошь быльем все поросло, а тропа – скалой закрыта в форме битого корыта, а скалу – ни дать, ни взять (заколдована, видать). Но Захар полез в котомку, вынул длинный рубль звонкий и, взмахнув из-под полы, дотянулся до скалы! И возникли тут же титры (прежде спрятанные хитро): «Тот, кто съест у нас обед, выбрав то, в чем яда нет, получает воздаянье, – исполнение желанья...» Пала темнота вокруг, и раздался голос вдруг: «Не держи на нас обиды, выбор блюд у нас – Колхиды и соседних с нею стран (в том числе и басурман); есть в ассортименте ноне шечама́нди из мацо́ни, мха́ли, щи́ловый дуке́н, шу́ле мал ягы́ биле́н, кчуч пестру́шковый на лярде и ари́са новаса́рди, есть храму́ли целиком и мсапу́р с просвирняко́м, сулугу́ни с хачапу́ри в чрианте́ли из чанчу́ри, нартхоры кардзын, цымга́, ленкора́ньская кюльга́, беш барма́к, гедикежа́пха, жу́мурт ха́ла бла колжа́бха, есть хинка́л по-ла́кски, аш, су́лу ди́ндили, бозба́ш, шмра́кские папке́ни, ха́ко и арца́хская тапа́ка... Ну же, выбирай скорей, не задерживай людей!» Как тут быть? Рехнуться впору... И с отчаянья и горя закричал наш молодец: «Водки штоф и огурец!» Штоф явился; наш страдалец отпил враз на целый палец, замелел и поднял ор: «Всё, сполняйте уговор! Вы не думайте, что даром можно обмануть хазара; 8 ваз, конечно, грех, только я – не хуже всех! Так что – отправляйте в пору тех моих военных сборов, там как надо отслужу и Майорам доложу!..» (А ведь мог, дурак, без боя он желание любое загадать – и получить; вот как вредно, дети, пить). Тут его взяла икота, зачесались руки что-то, а кругом, огнем горя, стал не свет и не заря; все вокруг Захара тает, звезд на небе не хватает, а луны и вовсе нет, и сошелся клином свет; с севера Метель явилась, словно вьюга разозлилась и завыла, как дитя, вихри снежные крутя; вдруг скала исчезла в яме, все свелись концы с концами, и, в концы вцепясь, Захар сгинул в снежном вихре чар. * * * Под тугими небесамирасчудесными коврами желтые пески лежат; звезды под землей дрожат; вкруг поляны лес чернеет, сосны густо зеленеют, посреди поляны в ряд серые шатры стоят. На краю поляны темной – без огня, без грома, скромно – вдруг сгустился белый пар, из него возник Захар... Вот те на, скажи на милость, только что ведь вьюга злилась, а теперь – взгляни, мой друг: лето явное вокруг!.. С телом, с телом что такое? – Как твое, но – молодое! Веришь ли своим глазам? Вот же, вот – твой детский шрам... Нету плеши, – во́т как молод! Чувствуешь здоровый голод, и при этом не болит твой хронический гастрит!.. Да, сбылось: попал он в пору юных лет, военных сборов; станет тактику учить, чтоб, вернувшись, получить справочку от воеводы с открепленьем от похода (точно знаю, что нужна, да забыл вот, на хрена...) Но сейчас – не в этом дело, признаю как есть всецело; тут важней вопрос возник, сходу, в лоб и напрямик: «Это почему такое – опосля, подлец, отбоя смеешь быть ты не в шатре, а болтаться на дворе?!» (Узнаете обороты? Точно: сотник третьей роты – помните, какой дебил? – на Захара наскочил). «Если спать тебе не надо, враз получишь два наряда; завтра будешь сонный, гад, – значится, еще наряд!» И откель он только взялся? Сам Захар-то растерялся, но язык его хранил: - Я до ветру отходил. - Иль не знаешь ты, что ночью – до подъема, между прочим! – тут бродить нельзя нигде? - Ну, а если – по нужде? - А чего ты, длинноносый, мне вопросом на вопросы отвечаешь, как хазар? - Что, нельзя? – спросил Захар. Тут уж третьей роты сотник – поучать большой охотник – с места излагать пошел, что такое хорошо, – уж Захару стало плохо; но прослушал он без вздоха все, включая «вашу мать», и пошел к палаткам, спать. Шел – и мучился загадкой: должен спать в какой палатке? Ноги же – не подвели, к месту сами привели. Засыпа́л Захар одетым, радуясь теплу и лету, мол, «пока у нас зима, отсижусь тут задарма...» И всю ночь Захару снилось, что как прежде вьюга злилась, что в сугробе он лежит, а над ним пурга визжит... (Август – декабрь 1994) |
| ↓ ОГЛАВЛЕНИЕ | ПЕСНЬ ШЕСТАЯ → |